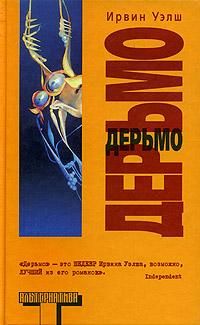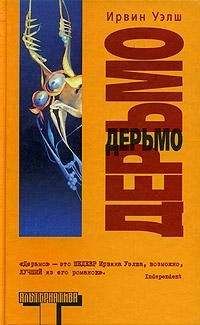Элизабет Макнилл - Девять с половиной недель
Зайдя домой пару дней спустя, я нахожу коробку из «Блумингдэйлс» – внутри записная книжка в шелковом переплете.
Мы заняты делами: нам нужно в супермаркет, химчистку, аптеку и в магазин по продаже алкоголя. Сегодня чудесная суббота, прошла неделя с тех пор, как мы ездили в «Блумингдэйлс» (кровать, как и было обещано, пришла в четверг), стоит ранний июнь. Мы надолго задерживаемся у стойки с зубной пастой: он в лицах пересказывает рекламу конкурирующих марок – побеждает «Беттер Чекапс». Я думаю про себя, что никогда еще не была так влюблена. Дважды я спрашиваю вслух: «Как можно быть настолько счастливой?» Оба раза он улыбается мне довольной улыбкой и обнимает за плечи, переложив часть сумок из одной руки в другую.
Мы оба уже прогибаемся под тяжестью пакетов, когда он произносит «Мне нужно еще кое-что» и подзывает такси. Мы оказываемся в Бруклине, в маленьком темном магазине охотничьих принадлежностей. Продавцов двое: один из них пожилой, умудренный опытом, а другой – подросток. Посетителей больше нет. Он разглядывает жилетки, из тех, что надевают под ветровку.
Я кладу свертки на стул, хожу по магазину, скучаю, присаживаюсь на край старинного стола красного дерева, листаю номер «Нью-Йоркера» трехлетней давности, который по чудесной случайности выглядит как новенький. «Наверное, все-таки вот этот», – говорит он. Я бросаю взгляд на стойку, он смотрит на меня. В руках у него кнут для верховой езды: «Хотелось бы попробовать». В моем сознании происходит странная трансформация: на секунду я теряю чувство времени, оказываюсь на чужой территории, в чужом времени. Он проходит несколько шагов, отделяющих его от стола, на который я присела, – одна нога стоит на полу, другая висит в воздухе. Он задирает юбку на моей левой ноге, которая лежит на столе, отступает назад и ударяет кнутом по внутренней поверхности бедра. Жгучая боль – лишь часть того клубка ощущений, большую часть которого составляет возбуждение – я не могу дышать, говорить, не могу пошевелиться; каждую клетку моего тела захлестнуло желание. В маленькой пыльной комнатке не слышно ни звука. Продавцы за стойкой замерли неподвижно. Он медленно поправляет на мне юбку и поворачивается к старшему из мужчин – на нем костюм, в котором он по-прежнему похож на бухгалтера, хотя снизу вверх от воротничка рубашки его лицо медленно заливает краска. «Этот подходит».
Что делал он• Он кормил меня. Сам покупал еду, сам готовил, сам мыл посуду.
• Он одевал меня по утрам, раздевал по вечерам и относил в прачечную мою одежду вместе со своей. Однажды, снимая с меня вечером туфли, он решил, что отрывается подметка, и на следующий день отправил их в ремонт.
• Он непрерывно читал мне: газеты, журналы, детективы, рассказы Кэтрин Мансфилд и мои собственные документы, когда я приносила их домой, чтобы закончить работу.
• Каждые три дня он мыл мне голову. Он сушил мне волосы моим феном, и на второй раз уже казалось, что он занимался этим всю свою жизнь. Однажды он купил немыслимо дорогую щетку для волос «Кент» и в тот вечер бил меня ею. Синяки от нее не проходили дольше других. Но каждый вечер он расчесывал мои волосы. Никогда раньше и никогда потом мои волосы не расчесывали так тщательно, так долго, с такой любовью. Они сияли.
• Он покупал для меня тампоны, вставлял их и доставал. В первый раз меня это неприятно удивило, но он сказал: «Я вылизываю тебя во время месячных, и нам обоим это нравится. Здесь то же самое».
• Каждый вечер он наполнял для меня ванну, экспериментируя с разными марками гелей, солей, масел, покупая без разбору, как девочка-подросток, всевозможные косметические снадобья, в то время как сам он твердо придерживался однажды принятого распорядка – гель для душа, мыло «Айвори», шампунь «Прелл». Я постоянно думала о том, какие мысли приходят в голову его уборщице при виде кнута на кухонном столе, наручников на дверной ручке столовой, свернувшихся змеиным клубком тонких серебряных цепочек в углу спальни. Еще я лениво размышляла о том, что она думает о внезапно возникшем в аптечке скоплении баночек и бутылочек, о девяти едва начатых шампунях, одиннадцати видах солей, выстроившихся на краю ванной.
• Каждый вечер он снимал мне макияж. Если я доживу до ста лет, то все равно не забуду этого ощущения – ты сидишь в кресле, закрыв глаза, откинув голову, чувствуя, как нежные прикосновения ватного шарика, смоченного в лосьоне, задерживаются на лбу, на щеках и, наконец, на веках…
Что делала я• Ничего.
Он приходит домой в мрачном расположении духа. Один из партнеров по теннису сказал ему, что кошачья еда – это мусор, и кормить этим кормом кошек – то же самое, что питаться самому исключительно шоколадными подушечками и зефиром. «Блестящая шерсть, – говорит он мне. – Тоже мне эксперт, этот Энди, у самого ни кота за душой, все его познания от женщины, с которой он пять лет никак не может расстаться, и у нее, видите ли, когда-то была кошка. Ладно бы черный кот внезапно засиял! Но эти вот. Они растут, они толстеют, выглядят не так ужасно, как раньше, но их шерсть, прости господи, какой была, такой и осталась. «“У твоих котов блестящая шерсть?” – спрашивает он меня. Черт бы его подрал, откуда я-то должен знать?»
Тем вечером он вывалил в кошачьи миски три банки консервированного тунца. На следующее утро, уже в деловом костюме, он готовит пять яиц тремя разными способами – часть выливает на тунца, часть оставляет нетронутой в миске, третью часть взбивает с молоком. В половине седьмого вечера он проходит прямиком на кухню, разворачивает полкило мелко нарезанной говядины и выкладывает на тарелку. (У него не так много кошачьей посуды, и миски к тому времени закончились.)
Коты объявили голодовку. Никто из них даже не притронулся к новой еде. Никто не снизошел до того, чтобы понюхать одно из многочисленных блюд, загромождавших кухонный пол, или проявить к ним хоть чуть больший интерес, чем к пустой пачке из-под сигарет. В девять часов он возвращается на кухню. Я иду за ним. Он указывает на набор из трех кошачьих мисок, трех салатниц, одной белой фарфоровой тарелки с облупившимся золотым ободком и розовато-лиловым узором из цветочных стеблей – одинокий обломок, доставшийся ему от тети (она же подарила ему тяжелую узорчатую скатерть, которую он никогда не убирал с обеденного стола и которая всегда навевала мысли о фирменных блюдах Армии спасения). «Видишь? – спрашивает он. – Они бы уже все съели, если бы это было им действительно нужно. Животные едят то, что требует их организм, если только могут это достать, в отличие от людей, – мне так сказал толстяк на рынке». И открывает три пакетика корма – с печенкой, морепродуктами и курицей. Три кошки заурчали хором, услышав знакомый звук. Он говорит себе под нос: «Да, ребята, правильно, больше никакого здорового питания».